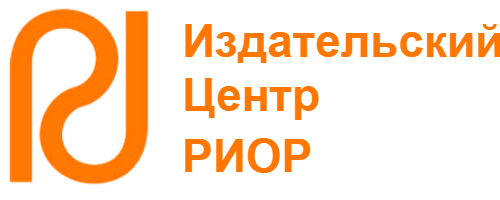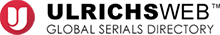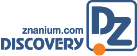VAK Russia 12.00.02
VAK Russia 12.00.10
VAK Russia 12.00.12
VAK Russia 12.00.14
CSCSTI 10.07
Russian Library and Bibliographic Classification 60
The article examines the problem of preserving state unity in the context of the constitutional ban on mandatory state ideology, which is enshrined in Part 2 of Article 13 of the Constitution of the Russian Federation. The authors analyze the historical and contemporary aspects of this issue, including the influence of Western values on Russian legal consciousness and the consequences of the 2020 constitutional reform. Special attention is given to the role of the Constitutional Court of the Russian Federation in interpreting constitutional norms, which helps to resolve contradictions and ensure a unified legal understanding without radical reforms. The authors conclude that the Constitution of the Russian Federation itself, as a system of legal principles and norms, performs the function of state ideology, reflecting the values and identity of Russia as a sovereign legal state. It is emphasized that constitutional norms serve as protection against external ideological influence and ensure the stability of the legal system.
Constitution of the Russian Federation, ideological prohibition, constitutionalism, legal regulation, interpretation of legal norms, and identity
Реалии нового времени актуализируют тематику возрождения и совершенствования духовно-нравственных ценностей в обществе, в том числе и в ракурсе русского конституционализма. Опыт участия России в Специальной военной операции «смыл» все иллюзии, которые были между сторонами конфликта. «Смылась» также иллюзия о возможности интеграции России в глобальную западную систему целеполагания. Еще в 2020 г. поправки в Конституцию Российской Федерации явили обществу необходимость глубокой и всесторонней конституционной реформе. По мнению различных специалистов, новая Конституция должна нести в себе совокупность политического и конституционного опыта, а также отражать весь исторический опыт российского конституционализма. Их позиция подкрепляется обращением к нынешней повестке. Безусловно, она всем очевидна. Зарубежные государства продавливают политику «общего конституционализма», обуславливающую формирование мира транснациональных корпораций, развивая сценарий «планетарного тоталитаризма» [1, с. 131]. Выражается этот сценарий в управленческой деятельности и манипулятивными началами над населением.
Глупо было бы отрицать, что обстановка на границах нашего государства оказывает влияние на развитии правовой мысли, выстраивая механизмы правовой защиты на «военные рельсы». Хотя последнее утверждение является спорным. Точнее было бы сказать, что право в целом становится на «цивилизационные рельсы», приобретая идею идентичности. Вместе с этим, положения ч.2 ст. 13 Конституции Российской Федерации (далее - Конституция РФ) трактуются как «цивилизационная капитуляция». Фактически, конституционно закреплен запрет на обязательную государственную идеологию в России. В этом прослеживается «экспансия либеральной мысли» в законодательный строй России. Хотя данная тема не является новой и бурно обсуждалась еще в 2020 году, но по-прежнему остается актуальной. Ведущие юридические университеты страны до сих пор проводят стратегические сессии и конференции, пытаясь выработать механизмы преодоления назревших противоречий. Например, Московским государственным юридическим университетом имени О.Е. Кутафина только за 3 месяца было проведено несколько заседаний Международной научно-экспертной площадке – форсайт «Россия в многополярном мире: государственный суверенитет и конструирование политического пространства». В обосновании «цивилизационной капитуляции» принято вспоминать уроки Февраля 1917 г. Контекст того времени был таков, что глава государства Николай II вынужден был отречься от престола (от имени сына в том числе). На следующий день брат Николая II, которому по правопреемству должен был достаться престол, отказался принять на себя ношу Российского императора. Привело это к возрастанию и укреплению общественного сепаратизма. Сепаратизм разрывал на части империю, приводя к демотивации и деморализации действующей армии, повлекшим за собой проблемы на фронте. Сепаратизм обусловил системный кризис. Вскоре Временное правительство приняло решение о ликвидации монархии, провозгласив Россию республикой. Но при этом, «ориентация на правовые иллюзии и заемные ценности» [2, с. 86], игнорируя реалии массового сознания, привела к ожесточенному цивилизационно-духовному конфликту. Именно идея «ориентаций на правовые иллюзии и заемные ценности» лежит в основе критики рассматриваемых положений Конституции РФ. В декабре 1991 г. на мировой арене перестал существовать Советский Союз. И вновь элиты, слепо веря в идеи Запада, демонтировали консолидацию общества, уничтожая его единство. Национально-патриотическим движениям автоматически присваивался оскорбительный статус «красно-коричневых. Не разобравшись в проблематике и значении событий Февраля-Октября, Россия получила трагедию второго за одно столетие крушения своей государственности) отрицается научным сообществом. Но действительно ли в ч.2 ст. 13 Конституции РФ содержится «цивилизационная капитуляция»? Председатель Конституционного Суда РФ В.Д. Зорькин выступает категорически против изменения рассматриваемых положений в Конституции РФ, говоря о том, что «конституция и есть идеология – другой не нужно» [3].
Высказывание председателя Конституционного суда РФ, безусловно, не официально, но отчасти показывает общее отношение к данной проблеме. С.Н. Бабурин и другие исследователи предлагает решать вопрос кардинально, принять новую Конституцию РФ. Однако в категоричной позиции председателя Конституционного суда и исследователей можно найти золотую середину. Ведь действительно, правоприменительный вопрос до сих пор остается не решенным. Одним из механизмов решения такого вопроса можно предложить выработку Конституционной судебной практики, направленной на официальное толкование ч. 2 ст. 13 Конституции РФ, что снимет нарастающие противоречия и позволит выработать единый вектор правопонимания. В силу специального статуса Конституционного Суда РФ его решения обладают определенными титульными особенностями. Согласно ст. 71 Федерального Конституционного закона от 21.07.1994 № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» [4] Конституционный суд РФ в ходе конституционного судопроизводства принимает решения в форме постановлений, определений и заключений. В силу ст. 79 рассматриваемого Федерального Конституционного закона Решения Конституционного Суда окончательны и не подлежат обжалованию, а в силу ст. 6 этого же нормативного правового акта обязательны на всей территории Российской Федерации для всех представительных, исполнительных и судебных органов государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий и учреждений, организаций, должностных лиц, граждан и их объединений. Таким образом, мы говорим о фактическом правовом регулировании данной сферы, решая поставленный вопрос более легкой процедурой без кардинальных правовых реформ. Подтверждается данный тезис, в частности, п.3 абз. Определения Конституционного Суда РФ 22-О/2002, в котором сказано, что «Конституционный принцип правового государства, возлагающий на Российскую Федерацию обязанность признавать, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина как высшую ценность (статья 1, часть 1; статьи 2, 17, 18 и статья 45, часть 1 Конституции РФ), предполагает установление такого правопорядка, который должен гарантировать каждому государственную защиту его прав и свобод. Правосудие как важнейший элемент данного правопорядка по самой своей сути является таковым, если обеспечивает справедливое разрешение дела и эффективное восстановление в правах. Кроме того, в судебной практике должно обеспечиваться конституционное истолкование подлежащих применению норм, что также выступает в качестве необходимого атрибута правосудия» [5].
Если решение о более легком и «удобоваримом» правовом регулировании кажется логичным, то вопрос о содержании данного решения остается открытым. Как было отмечено ранее, официального толкования ч. 2 ст. 13 Конституции РФ не получила. Однако в некоторых решениях Конституционного Суда РФ можно найти «отголоски» данного толкования. Например, в Постановлении Конституционного Суда РФ от 14.07.2015 №21-П говорится о том, что недопустимо имплементировать в правовую систему государства те международные договоры, которые могут повлечь ограничение прав и свобод человека и гражданина, а также допустить посягательство на основы конституционного строя РФ, элементом которого является запрет на установление обязательной государственной идеологии. В этом случае конституционная норма носит охранительную функцию, предотвращающую интеграцию в национальную правовую среду «чуждого» правового регулирования, позволяющего установить государственную идеологию в ущерб интересам страны [6]. И, как точно было отмечено в Постановлении Конституционного Суда Р от 07.06.2000 № 10-П, Россия, являясь правовым демократическим государством и членом мирового сообщества, участвует в международных правоотношениях исходя из качественных признаков, характеризующих ее конституционно-правовой статус. То есть подчеркивается приоритет государственного суверенитета [7].
При этом суверенитет является основой конституционного строя, а единственным его носителем, согласно ч.1 ст.3 Конституции РФ, является ее многонациональный народ. Сюда же отнесем и закрепленную в Преамбуле Конституции РФ цель принятия Конституции РФ многонациональным народом – сохранение исторически сложившегося государственного единства и возрождения суверенной государственности России. Именно тут и прослеживается идея, согласно которой Конституция РФ – это есть государственная идеология России. Именно поэтому В.Д. Зорькин против отмены запрета на государственную идеологию «Конституция — это и есть идеология государства» [3].
Любые идеологические процессы напрямую влияют на национальную правовую систему страны. Исходя из конституционных принципов все правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, в том числе конституции республик, не должны противоречить Конституции РФ. Это означает, что политический курс страны, а также идеологические воззрения «верхушки власти» не могут повлиять на сложившуюся правовую среду, тем самым Конституция РФ обеспечивает защиту прав и интересов граждан. Конституция РФ как таковая является актом высшего непосредственного выражения власти многонационального российского народа в целом, и тем самым препятствует выражению власти элит. Усиливая приведенный довод, отметим высказывание Мануэля Кастельса, основателя теории новой социологии города, которое было приведено В.Д. Зорькиным в своей работе: «Русский народ и народы бывших советских обществ должны будут пройти через восстановление своей коллективной идентичности в мире, где потоки власти и денег пытаются дезинтегрировать возникающие экономические и социальные институты еще до того, как они окончательно оформились, чтобы поглотить эти институты в своих глобальных сетях. Нигде идущая борьба между глобальными экономическими потоками и культурной идентичностью не является более важной, чем на обширном пустыре, созданном коллапсом советского этатизма» [8, с. 160].
Посредством конституционной реформы 2020 года был закреплен ряд общезначимых ценностей, позволяющих обеспечить общественное согласие и доверие. Очевидно все эти ценности, образуя основу конституционной идентичности России, в то же время составляют суть конституционно-правового мировоззрения. В контексте обсуждаемой проблемы, Конституция, будучи системой правовых принципов и норм, также служит ценностно-мировоззренческой основой идентичности России как правового суверенного государства. Высшие органы власти могут проводить, скажем, либеральную или консервативную политику, но в той мере и до тех пор, пока она держится в рамках Конституции, то есть предписанных ею правовых принципов и норм, в то же время обладающих качеством общезначимых ценностей. И в нынешнем своем виде Конституция в наибольшей степени соответствует тому, о чем в свое время писал академик В.С. Нерсесянц: по своему духовному смыслу она представляет собой «общеобязательные общегосударственные ценности, выражающие идейное содержание и цели российской конституционно-правовой государственности» [9, с. 7], и таким образом, конституционализм –– это и есть «общегосударственная надпартийная идеология и интегративная общенациональная идея». Конституционное мировоззрение охватывает общие закономерности правового демократического социального светского государства в контексте современных реалий, с одной стороны, и специфические особенности конституционного строя России, с другой, в совокупности, отражающие идентичность России как исторически сложившуюся социокультурную данность.
В заключение можно утверждать, что сохранение государственного единства в условиях конституционного запрета на обязательную идеологию требует взвешенного подхода, сочетающего уважение к базовым принципам Конституции РФ с необходимостью защиты национального суверенитета и идентичности. Конституция, будучи не только правовым, но и ценностно-мировоззренческим документом, сама по себе выполняет роль общегосударственной идеологии, отражая исторически сложившиеся принципы российской государственности. Важную роль в этом процессе играет Конституционный Суд РФ, чьи решения способствуют единообразному пониманию норм и снятию возникающих противоречий без радикальных изменений основного закона. Таким образом, несмотря на отсутствие официальной идеологии, Конституция обеспечивает правовую стабильность, защиту от деструктивных внешних влияний и сохранение гражданского согласия, оставаясь фундаментом для дальнейшего развития России как суверенного и демократического государства.
1. Baburin S. N. Znachenie cennostnoy dinamiki rossiyskogo konstitucionalizma HH v. // Vestnik Universiteta imeni O. E. Kutafina (MGYuA). 2021. № 5 (81). S. 130–136.
2. Marchenya P. P. Konstitucionalizm i massy v istorii sistemnyh krizisov Rossii: illyuzii i realii Russkogo pravovogo soznaniya // Istoriko-pravovye problemy: novyy rakurs. 2023. № 3. S. 80–93.
3. Gorban' A. Zor'kin: Konstituciya - eto i est' ideologiya gosudarstva // RAPSI. 2024. 26 iyunya. [Elektronnyy resurs]. URL: https://rapsinews.ru/incident_news/20240626/310037200.html?ysclid=mccaa5paoc165156675 (data obrascheniya: 25.06.2025).
4. Federal'nyy konstitucionnyy zakon ot 21 iyulya 1994 g. № 1-FKZ «O Konstitucionnom Sude Rossiyskoy Federacii» // Sobranie zakonodatel'stva Rossiyskoy Federacii ot 1994 g. № 13 st. 1447.
5. Opredelenie Konstitucionnogo Suda RF ot 20 fevralya 2002 g. № 22-O/2002 // Konstitucionnyy Sud Rossiyskoy Federacii. [Elektronnyy resurs].URL: https://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision31020.pdf (data obrascheniya 15.06.2025).
6. Postanovlenie Konstitucionnogo Suda RF ot 14.07.2015 № 21-P // Konstitucionnyy Sud Rossiyskoy Federacii. [Elektronnyy resurs]. URL: https://www.ksrf.ru/Decision/lp/ (data obrascheniya: 22.06.2025).
7. Postanovlenie Konstitucionnogo Suda RF ot 07.06.2000 g. № 10-P // Konstitucionnyy Sud Rossiyskoy Federacii. [Elektronnyy resurs]. URL: https://www.ksrf.ru/Decision/ExtPos/ (data obrascheniya 21.06.2025).
8. Zor'kin V. D. Lekcii o prave i gosudarstve: SPb. Konstitucionnyy Sud Rossiyskoy Federacii, 2024. S. 352.
9. Nersesyanc V. S. Konstitucionalizm kak obschegosudarstvennaya ideologiya // Konstitucionno-pravovaya reforma v Rossiyskoy Federacii : Sbornik statey / Centr social. nauch.-inform. issled. Otd. politologii i pravovedeniya; Otv. red. - Yu. S. Pivovarov. – Moskva : Institut nauchnoy informacii po obschestvennym naukam RAN, 2000. – S. 6–10.