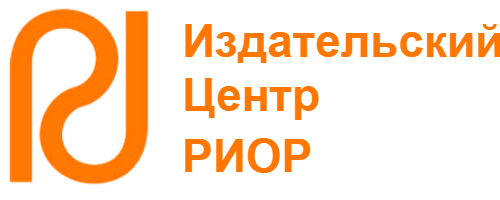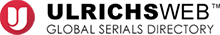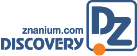аспирант с 01.01.2022 по 01.01.2025
Мо, г. Москва и Московская область, Россия
ВАК 12.00.01 Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве
ВАК 12.00.02 Конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право
ВАК 12.00.10 Международное право; Европейское право
ВАК 12.00.12 Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность
ВАК 12.00.14 Административное право; административный процесс
ГРНТИ 10.07 Теория государства и права
ББК 60 Общественные науки в целом
В статье рассматривается роль Конституционного Суда Российской Федерации в конкретизации и практической реализации принципов равенства и справедливости. Подчёркивается, что в условиях высокой степени абстракции конституционных норм именно судебная практика обеспечивает их нормативное наполнение. Исследование основано на анализе решений Конституционного Суда Российской Федерации за 1995–2025 годы и выявляет три уровня правового воздействия: прямое применение конституционных положений, контекстуализированная интерпретация принципов и аксиологическая трансформация правовых норм. Доказывается, что принцип справедливости в юрисдикции Конституционного Суда Российской Федерации выполняет функцию ценностного корректора, соединяя позитивное право с философско-нравственными началами. Делается вывод о ключевой доктринальной роли Конституционного Суда Российской Федерации в формировании справедливости как деятельного правового ориентира в системе публичного права.
Конституционный Суд, равенство, справедливость, конституционные принципы, правовой синтез, аксиология, правовая интерпретация
Принцип справедливости занимает центральное место в конституционном правосознании и правовой доктрине Российской Федерации. Однако в условиях казуальной конституционной юрисдикции данный принцип получает не абстрактное, а конкретизированное, контекстуально обусловленное содержание. Конституционный Суд Российской Федерации, действуя в режиме правового арбитра и доктринального интерпретатора, не только применяет справедливость как категорию, но и последовательно формирует её нормативный профиль.
Настоящее исследование направлено на системное выявление роли принципа справедливости в практике Конституционного Суда Российской Федерации на основе сочетания качественного анализа решений за 1995–2025 годы и количественной выборки постановлений и определений, в которых принцип прямо или имплицитно был использован данный принцип использован как аргумент в обосновании правовой позиции.
В российской правовой системе конституционные принципы зафиксированы в тексте Конституции Российской Федерации в обобщённой форме и не обладают формально иерархизированной структурой или закреплённой процедурой конкретизации. Это создаёт определённый нормативный вакуум, заполняемый через судебную практику, прежде всего –решения Конституционного Суда Российской Федерации. Особенно значимой в этом контексте становится категория справедливости, которая не получила определения в Конституции Российской Федерации, но фактически функционирует как центральный конституционный ориентир.
Конституционные принципы о равенстве и справедливости в российских реалиях существуют преимущественно в форме обобщённых категорий, разбросанных по тексту Конституции Российской Федерации.
Суд, действуя в режиме интерпретативного суверенитета, не только применяет, но и формирует содержание конституционных принципов. Он выступает своего рода «генератором» этих принципов, осуществляя казуальную нормативизацию. В силу того, что справедливость не определена в Конституции Российской Федерации ни как правовая, ни как процедурная категория, именно судебная практика наделяет её операциональным содержанием. Этот процесс представляет собой правовой синтез – соединение формально-догматической структуры позитивного права с оценочно-нравственными категориями, присущими философии и правовой этике.
В современном конституционном правосудии однозначное применение позитивных норм зачастую оказывается недостаточным для разрешения сложных казусов, затрагивающих фундаментальные права и свободы человека. В таких ситуациях Конституционный Суд Российской Федерации использует особую форму правового мышления, которая может быть охарактеризована как правовой синтез. Этот подход предполагает соединение формально-юридической интерпретации с оценочной, ценностной, а нередко и социокультурной аргументацией.
В отличие от традиционного нормативизма, ориентированного исключительно на текст закона, правовой синтез допускает выход за рамки «буквы» права – к его «духу», что особенно важно в системе, где конституционные принципы имеют высокий уровень абстракции и не обладают исчерпывающим содержанием в силу отсутствия иерархически организованной доктрины.
Юридическая аргументация в решениях Конституционного Суда Российской Федерации строится на трёх взаимосвязанных элементах:
I. Прямые ссылки на нормы Конституции Российской Федерации общего характера.
Суд последовательно опирается на положения Конституции Российской Федерации, выражающие базовые принципы государственного устройства и правового порядка – статья 1 (правовое государство), статья 17 (неотчуждаемость прав), статья 19 (равенство всех перед законом), статья 55 (недопустимость ограничения прав вне целей, закреплённых в Конституции Российской Федерации). Эти нормы задают аксиологическую рамку для правоприменения, в которой возможна оценка конкретных случаев не только по формальным признакам, но и через призму конституционных ценностей.
Пример: в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 15 июля 2022 г. № 10-П по делу о проверке конституционности пункта 1 статьи 13 Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» в связи с жалобой гражданки Е.В. Андреевой суд ссылается не только на конкретные нормы о социальной поддержке, но и на статьи 19 и 55 Конституции как ориентиры для оценки допустимости правовых различий между категориями лиц.
II. Контекстуализированная интерпретация принципов через призму конкретного дела.
В большинстве случаев Конституционный Суд Российской Федерации обращается к принципу справедливости не как к отвлечённому нормативному идеалу, а как к инструменту, позволяющему соотнести общую норму с конкретной ситуацией. Это особенно характерно для дел, где необходимо найти баланс между конкурирующими конституционными ценностями. Например, между публичными интересами и частными правами, между формальным равенством и материальным обеспечением равных возможностей. При этом справедливость приобретает характер «нормативного моста», соединяющего общий принцип с конкретной правовой оценкой.
Пример: в определении от 24 октября 2019 г. № 2541-О Конституционный Суд рассматривал жалобу на нормы, касающиеся ограничения свободы передвижения в связи с задолженностью по алиментам. Суд указал, что запрет на выезд может быть признан соответствующим Конституции Российской Федерации только при условии, что он применяется пропорционально цели и с учётом конкретных обстоятельств. Именно через принцип справедливости была обоснована необходимость индивидуализированной оценки, а не механического применения нормы.
III. Аксиологическая трансформация правовой нормы.
Одним из наиболее значимых вкладов Конституционного Суда Российской Федерации в развитие правовой доктрины является способность трансформировать позитивную норму через аксиологическое переосмысление. Это происходит тогда, когда формально корректная, но не справедливая интерпретация нормы приводит к правовой позиции, противоречащей духу Конституции Российской Федерации. В таких случаях суд корректирует нормативный смысл, опираясь на справедливость как финальный критерий конституционности.
Пример: в постановлении от 25 января 2019 г. № 6-П по делу о проверке конституционности положений закона о защите конкуренции Конституционный Суд Российской Федерации признал, что правоприменительная практика, допускающая наложение штрафов без учёта имущественного положения субъекта малого предпринимательства, нарушает принцип справедливости. Суд подчеркнул, что санкции должны быть не только формально правомерными, но и соразмерными, и, следовательно, справедливыми по своему эффекту.
Таким образом, принцип справедливости в конституционной юрисдикции Российской Федерации не является лишь декларативной категорией, но выполняет функцию нормативной коррекции, аксиологического наполнения и контекстуального медиатора. В условиях, когда Конституция Российской Федерации задаёт лишь общие ориентиры, именно судебная практика становится пространством конкретизации и доктринального развития справедливости как основополагающего принципа правового порядка.
1. Конституция Российской Федерации: принята всенар. голосованием 12 дек. 1993 г. (в ред. от 14.03.2020 № 1-ФКЗ) // Российская газета. — 2020. — 17 марта.
2. О Конституционном Суде Российской Федерации: федер. конст. закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ (в ред. от 14.07.2022) // Собрание законодательства РФ. — 1994. — № 13. — Ст. 1447.
3. Малько А.В. Принципы справедливости в современном российском конституционализме. — М.: Норма, 2018. — 304 с.
4. Автономов А.А. Право на равенство и недискриминацию в международных стандартах и российском праве // Государство и право. — 2020. — № 3. — С. 5–14.
5. Нерсесянц В.С. Право и справедливость. — М.: НОРМА, 2002. — 416 с.
6. Кононова О.В. Конституционные принципы равенства и справедливости: особенности правовой интерпретации // Конституционное и муниципальное право. — 2021. — № 4. — С. 26–31.
7. Лазарев В.В., Малько А.В. Теория государства и права. — 8-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2022. — 528 с.
8. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 21 декабря 2022 г. № 56-П «По делу о проверке конституционности пункта 2 части 1 статьи 10 Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» в связи с жалобой гражданки А.А. Дробковой» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2023. – № 1. – Ст. 25.
9. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 30 июня 2011 г. № 14-П «По делу о проверке конституционности положений пункта 10 части 1 статьи 17 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и статьи 20.1 Закона Российской Федерации «О милиции» в связи с жалобами граждан Л.Н. Кондратьевой и А.Н. Мумолина» // Российская газета. – 2011. – 8 июля. – № 148.
10. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 25 февраля 2014 г. № 4-П «По делу о проверке конституционности ряда положений статей 7.3, 9.1, 14.43, 15.19, 15.23.1 и 19.7.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в связи с запросом Арбитражного суда Нижегородской области и жалобами обществ с ограниченной ответственностью «Барышский мясокомбинат» и «ВОЛМЕТ», открытых акционерных обществ «Завод «Реконд», «Эксплуатационно-технический узел связи» и «Электронкомплекс», закрытых акционерных обществ «ГЕОТЕХНИКА П» и «РАНГ» и бюджетного учреждения здравоохранения Удмуртской Республики «Детская городская больница № 3 «Нейрон» Министерства здравоохранения Удмуртской Республики» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2014. – № 9. – Ст. 920.