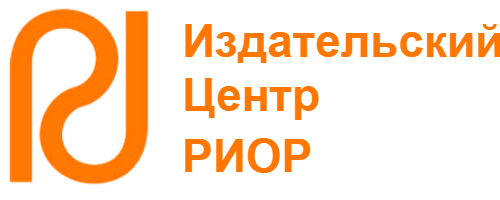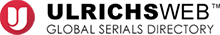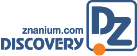с 01.01.1994 по настоящее время
Москва, г. Москва и Московская область, Россия
студент
ВАК 12.00.02 Конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право
ВАК 12.00.10 Международное право; Европейское право
ВАК 12.00.12 Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность
ВАК 12.00.14 Административное право; административный процесс
ГРНТИ 10.07 Теория государства и права
ББК 60 Общественные науки в целом
В настоящей статье на основе использования сравнительно-исторического метода рассматриваются типологические особенности южнокорейского права. А именно: соотношение религиозного и светского начал в южнокорейском праве с момента становления права древнекорейского государства Силла и до наших дней. Целью исследования является сравнительный анализ того влияния, которое оказывали религия и светский мир с их требованиями, регулятивными правилами и предписаниями на развитие южнокорейского права. Эволюция права на юге Корейского полуострова – это длительный процесс созидания национальной правовой системы за счет нормативно-регулятивных требований самых разнообразных верований, включая первобытные, которые светская власть официально признавала общеобязательными и обеспечивала их всей мощью государственного принуждения, втягивая в круговорот законотворческого процесса и правоприменения.
южнокорейская правовая система, право государства Силла, шаманизм, конфуцианство, буддизм, даосизм, протестантизм
Южнокорейское право – это «terra incognita»[1] на юридической карте мира, практически не изученное в рамках правовой компаративистики. Исследования южнокорейского права фактически отсутствовали в СССР и слабо обозначились в современной российской науке. Отдельные аспекты развития южнокорейской правовой системы были отмечены в работах: Маркова В.М. [13], Иванова А.М. [14], Толстокулакова И.А. [8].
Проблемы соотношения религиозного и светского начал южнокорейского права практически не исследованы в российской юридической науке.
Между распадом и гибелью государства Силла в 892 году и возникновением Республики Корея в 1948 году прошло почти 1056 лет, наполненных столкновениями культур, влекшими за собой серьезные изменения политико-идеологической и социально-экономической среды. Южная часть Корейского полуострова неоднократно становилась ареной межгосударственных конфликтов, порождавших новые политические реалии и общественные отношения, сопровождавшиеся законодательным закреплением установившихся порядков и их идеологических основ. Но бурные события истории оказались бессильны перед волей южнокорейского народа сохранить свою языковую и культурную идентичность, включая базовые элементы силланской правовой системы, перенесенные через века благодаря растворению в национальной правовой традиции.
Ценным наследием государства Силла явилась отработанная на практике и прекрасно зарекомендовавшая себя система юридической конвергенции – эволюционного пути сближения правовых норм различного происхождения. В первую очередь это касалось регулятивных нормативных установок распространённых в государстве религий. При поддержке светских институтов они интегрировались в южнокорейскую правовую систему, становясь неотъемлемой частью национальной правовой традиции.
В рамках южнокорейского традиционного права были бережно сохранены и силланские практики юридической аккультурации – постепенного усвоения и применения норм чужого правового наследия. Они оказались особенно полезны начиная с XIX века, когда бывшие владения Силла стали форпостом западных экспансионистов. Здесь мог бы отмечаться феномен, в конце ХХ века С. Хантингтоном названный «конфликтом цивилизаций». К счастью, этому препятствовал специфический менталитет южнокорейского населения, с его опытом гармоничного сосуществования с любыми культурами и толерантной правовой традицией, позволившими найти множество точек соприкосновения и взаимных интересов коренных жителей с иностранцами, в том числе и в правовой сфере.
Корейцы приняли западные христианские ценности как внешнее проявление лояльности к могуществу западной цивилизации, однако, не меняя свой традиционный менталитет. Впрочем, они не вносили революционные изменения и в свою правовую культуру, а лишь интегрировали в нее прежде всего регулятивный функционал пуританских направлений протестантизма (пресвитерианство, методизм, баптизм и пятидесятничество), основанный на духовных ценностях, близких корейскому конфуцианству.
Республика Корея возникла в 1948 году. Протестанты сыграли важнейшую роль в формировании ее правовой системы по западному образцу, не противопоставляя свои вероисповедные принципы господствующему в стране конфуцианству, а запуская процесс конвергенции нормативно-регулятивного аппарата новых религий с традиционными, в результате чего это государство стало самой конфуцианской частью всего христианского мира.
Вестернизация права в Республике Корея осуществлялась по классическим силланским лекалам, а отвечали за нее политики и правоведы, воспитанные в протестантской среде, но на фундаментальных основах южнокорейской правовой традиции, в том числе и первый президент этой страны Ли Сын Ман (1875–1965), являвшийся приверженцем методизма, т.е. протестантизма, как и остальные разработчики Конституции страны [15, c. 178].
Протестантский мир породил негативные проявления в развитии южнокорейского права, но необходимо подчеркнуть, что именно этот же мир возглавил движение за оздоровление политической, социальной, правовой и культурной областей жизни Южной Кореи, чему способствовало появление обновленческой доктрины «минджунь» («теология масс») [5, c. 38].
Влияние христианства на право и правовую культуру Республики Корея до сих пор можно считать значительным, хотя на уровне массового общественного сознания менталитет жителей юга Корейского полуострова остался почти не отличим от того, что сформировался в эпоху Силла. Нет сомнений, что размыв некоторых компонентов южнокорейской правовой культуры уже произошел, но ее конфуцианский базис остался незыблемым.
Более 600 лет право в государстве Силла развивалось в условиях полного отсутствия письменности. Первые силланские тексты увидели свет лишь в VII в. н.э. благодаря заимствованию древнекитайского письменного языка «вэньянь». Первобытные корни и социальную ограниченность силланской государственности гармонично дополняла господствующая религия – шаманизм, всегда и везде отличавшаяся крайне эффективной запретной составляющей, формировавшей у людей моральность, покорность и законопослушание на уровне массового психического состояния, особенно в небольших обществах [9].
Нормативность первобытных религий (вернее, даже культов) уже давно признается научным миром как самостоятельная форма правовой культуры. О. Конт описывал действия регулятивных правил духовных идеологий, которым не требовалась даже письменность, т.к. они соблюдаются на глубинном уровне, вплоть до сновидений. К. Леви-Строс убедительно отнёс это заключение к первобытной религиозности [6, c. 245].
Первоначальная эволюция силланского права – шаманистского по природе, осуществлялась в соответствии с классическими законами развития идеологии, затрагивая все новые общественные отношения, регулируемые прошедшей временем проверку на эффективность практикой первобытного экстаза, чем, по убеждению М. Элиаде, являлся шаманизм [10].
Господство шаманизма проистекало из социо-нормативного характера первобытной религиозности, представлявшей собой синтез религиозных, правовых и моральных начал [6, c. 451]. Определяющую роль в правовой сфере Силла шаманы сохраняли вплоть до возникновения южнокорейского права как обособленной нормативно-регулятивной системы.
Первые силланские правители носили титул «чхачхаун» или «чачхун», т.е. «жрец», что делало их носителями высшей религиозной нормативной власти, требования которой соответствовали воле богов [4, c.59]. И тут мы сталкиваемся с первым проявлением светского фактора в формировании южнокорейского права, оставшимся незамеченным историками и правоведами.
В Силла верховным шаманом правитель объявлялся только по причине своего социального статуса. Это было революционным нововведением, обозначавшим запрос светской власти на доступ к магико-нормативному кластеру традиционного права, благодаря чему светские законы обладали бы священной силой религиозных. Оно положило начало оформлению южнокорейского государства в виде надродового института, а со временем религиозно-нейтрального организующего центра, приобретавшего всё большую значимость в процессе эволюции силланской правовой системы и поступательного развития правовой традиции древнейшей цивилизации юга Корейского полуострова.
Присвоение правителем Силла титула верховного «жреца»-шамана позволило ему установить контроль над всеми областями деятельности государства и общества через тотальное магико-юридическое господство, даже не обладая необходимыми для этого качествами. Ни один правитель Силла не обрел славу великого практикующего шамана.
Кодифицированное силланское право представляло собой синтез нормативно-регулятивных правил шести основных родов государства с четким выделением таких нормативных понятий, как собственные и семейные права, проступок, вина, суд, наказание (кара), обязательство, раскаяние и т.д., продолжавшие сохранять свое историческое сакральное содержание и общественное значение. Цементирующей массой правовой системы ранних периодов истории Силла выступали немногочисленные нормы центральной власти – надродового института по назначению, хотя на деле отражавшего интересы рода, чей представитель возглавлял государство. Указанные нормы внедряли не только новые институты, но и понятия – гражданский долг, присяга, органы государственной власти, государственные служащие.
Кодификация древнего южнокорейского права привела к формированию единого правового пространства и созданию силланской правовой системы, имевшей элементы, выполнявшие динамическую функцию (шаманское правотворчество и правоприменение, а также регулируемые шаманами правоотношения) и статическую (государственную доктрину, институты, структурированные по вертикали нормы права и источники права).
Элементы правовой системы Силла, выполнявшие статическую функцию, находились под преимущественным контролем государства, играющего ключевую роль посредника между государственными институтами и религиозными. Это позволяло светскому и духовному в полной мере проявить свои лучшие качества при развитии не только южнокорейского права, но и южнокорейской правой традиции.
Кодификация южнокорейского права контролировалась правящей верхушкой Силла, активно обогащавшей силланский нормативный комплекс новыми понятиями и институтами, заимствованными, преимущественно, у соседнего императорского Китая.
Кодификация традиционного права южнокорейского шаманизма способствовала укоренению в сознании силланцев идеологической установки, считавшейся ранее немыслимой: не человек создан для религии (и ее регулятивных правил), а религия для человека. Это была победа светского начала в Силла, распространившаяся и на правовую сферу. Она позволяет ему и сегодня, в ключе силланской правовой традиции, принимать любые религии, вычленяя из них самые важные идейно-нормативные компоненты, ставя их на службу интересам государства и общества.
Победоносные войны дали силланцам возможность интегрироваться в социокультурное пространство Восточной Азии с репутацией мощной региональной державы и построить южнокорейскую цивилизацию по наилучшим тогда стандартам – китайским, к которым прилагался целый пакет модных религий (буддизм, даосизм, конфуцианство).
В 502 г. н.э. в Силла запрещаются человеческие жертвоприношения, связанные с шаманизмом. Год спустя правитель Чиджын (500–514 гг. н.э.) принял титул «вана». Тогда же за государством закрепляется название «Силла» [4, c.63]. В 520 году правитель Попхэн уговорил Совет Знати дать согласие на буддийскую проповедь в Силла. Только после этого с помощью китайских буддийских проповедников началось распространение буддизма на всём юге Корейского полуострова. В 520 году в Силла создаётся письменный свод законов «Юллён» («Законы и наставления»), разрабатывавшийся по китайским буддийским канонам, в силу его недоступности исследователям, не изученный.
По замыслу вана Попхына, буддизм с его слабой правовой системой не должен был вступать в противоречие с замешанной на шаманистских суевериях традиционной правовой культурой граждан Силла, в частности, в общем понимании сущности государственных законов, в которых буддисты видели беспристрастные нормы человеческого Пути и справедливости.
В 545 г. н.э. на всей территории государства Силла стало распространяться учение Конфуция, благодаря которому вновь обрел социальную значимость игнорируемый буддизмом культ предков, почитателем которого считал себя практически каждый кореец. Конфуцианские постулаты о добродетели и праведной жизни полностью соответствовали этическим взглядам силланцев и их правовой культуре, продолжавшей испытывать засилье шаманизма.
Всего за 43 года, с 502 по 545 г. н.э., в государстве Силла без каких-либо социально-политических потрясений многократно сменились государственные религии: шаманизм, буддизм, даосизм, вплоть до конфуцианства. Это был поступательный процесс не только духовного, но и правового развития. В данном процессе религии продолжали играть динамическую функцию (правотворчество и правоотношения), а государство – динамическую и статическую, превратившись в религиозно-нейтральное организующее начало южнокорейской правовой системы.
В качестве краткого заключения отметим следующее. Сравнительный анализ религиозного и светского начал южнокорейского права показывает, что они не только исторически не противостоят друг другу, но и активно взаимодействуют более двух тысяч лет. При этом светское начало играет роль организующей, регулирующей и направляющей надконфессиональной силы, формирующей позитивное право за счет лучших достижений самой консервативной формы правовой практики – религиозной, относящейся к обычному (традиционному) праву.
Южнокорейский опыт развития правовой системы и поступательного совершенствования правовой традиции поистине уникален. Он разительно отличается, например, от европейского, омраченного жестокими (кровопролитными) конфликтами на религиозной почве, в результате которых религиозное право часто становилось синонимом мракобесия и правового нигилизма.
Силланская правовая традиция позволила превращать любые религии в движущую силу общественного и государственного прогресса. Но только конфуцианству выпала судьба стать универсальной скрепой и важнейшим маркером нынешней правовой системы Республики Корея. На южнокорейской почве конфуцианство выступило в качестве аналога протестантизма, с которым оно гармонично сосуществует и по сей день. Именно этот, странный на первый взгляд, синтез великих религий Востока и Запада стал духовной движущей силой феноменального экономического успеха данной страны, порождая новые общественные отношения («конфуцианская культура предприятия», «конфуцианская клановость» и т.д.) и определяя дух соответствующих им нормативных актов.
1. Вебер М. Хозяйственная этика мировых религий. Опыты сравнительной социологии религии. Конфуцианство и даосизм. Санкт-Петербург: Владимир Даль, 2017, 446 с.
2. Волков С.В. Ранняя история буддизма в Корее (сангха и государство). Москва: Наука, 1985. 152 с.
3. Волков С.В. Чиновничество и аристократия в ранней истории Кореи. Москва: Наука, 1987. 288 с.
4. История Кореи. В 2 томах. Том I. Москва: Наука, 1974. 470 с.
5. Леви-Строс К. Тотемизм сегодня / Леви-Строс К. Первобытное мышление / Пер., вст. ст., прим. А. Островского. Москва: ТЕРРА-Книжный клуб, Республика, 1999. 392 с.
6. Мальцев Г.В. Нравственные основания права. Москва: Норма, 2008. 550 с.
7. Тихонов В.Н., Кан Мангиль. История Кореи. В 2 томах. Том I. Москва: Восточная книга, 2011. 544 с.
8. Толстокулаков И.А. История общественно-политической мысли Кореи. Владивосток: Изд-во ДВГУ, 2007. 366 с.
9. Фрейд З. Тотем и табу. Психология первобытной культуры и религии. Москва: Академический проект, 2007. 160 с.
10. Элиаде М. Шаманизм и архаические техники экстаза. Москва: Ладомир, 2015. 552 с.
11. Deuchler M. The Confucian Transformation of Korea. Cambridge, 1992. 439 p.
12. Pyong-choon Hahm. Korean jurisprudence, politics, and culture. Seoul, Korea: Yonsey University Press, 1998. 572 p.
13. Марков В.М. Республика Корея. Традиции и современность в культуре второй половины ХХ века. Взгляд из России. Владивосток: Изд-во ДВГУ, 1999. 445 с.
14. Иванов А.М. Основы конституционного права на Корейском полуострове. Владивосток: Изд-во ДВГУ, 2002. 88 с.
15. Мазуров В.М. Политическое лидерство в межконфессиональном южнокорейском обществе // Республика Корея – опыт модернизации. М., 1996.